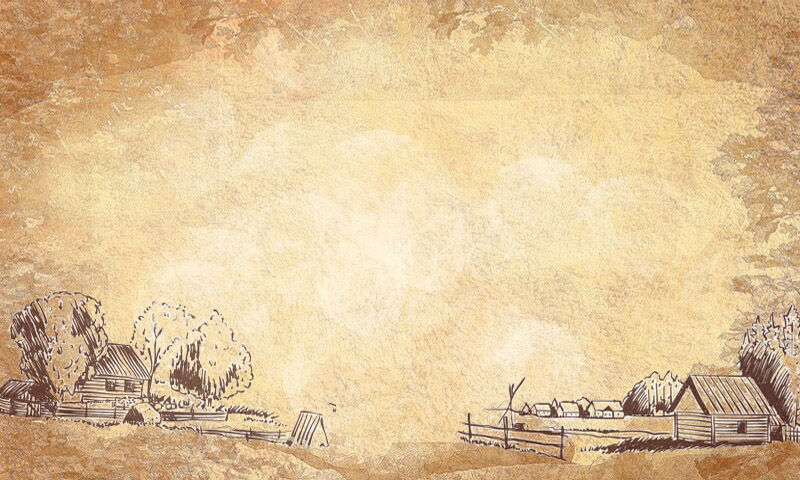
Семья

Дорогами новой эпохи. Детство
Дорогами новой эпохи. Детство
Детские годы... Река Сож — приток воспетого Гоголем чудного Днепра. Весеннее половодье, быстро плывущие льдины, широкие заливные луга...
На берегу красивой полноводной реки раскинулось село Лобковичи. В этом белорусском селе я родился; здесь прошли мои детство и юность. Никогда не забыть того времени, когда ходил за стадом коров с пастушьей березовой дудочкой, когда мечтал и спорил у ночных костров со своими сверстниками.
Трудными и суровыми были детские годы. Отец Венедикт Семенович и мать Екатерина Павловна не знали грамоты. Накормить и одеть большую семью было нелегко. Мать родила двенадцать детей, но в живых осталось только семеро. Своего хлеба не хватало. Жили в самой горькой бедности. Несколько лет подряд наша семья пасла деревенский скот. Зимой отец уезжал на шахты в Донбасс, чтобы заработать денег на пропитание семье.
Беспросветную нужду рано почувствовали и мы, маленькие. Хорошо помню курные избы, белорусскую бульбу, заменявшую все другие лакомства, хлеб с мякиной и корой; помню, как босиком бегал по весеннему таящему снегу.
Мать была душой нашей семьи, мы любили ее и слушались. Вставала она раньше всех и ложилась последней. Откуда только брались у нее силы! Отец был добрым человеком. Но если провинишься, наказывал строго.
Меня считали везучим. Однажды мама рассказала следующий случай.
- Лет четырех, сынок, ты заболел дифтерией. В ту пору наступила пасха. Мы поехали в Онуфриевскую церковь святить куличи и захватили тебя, чтобы показать местному дьячку, слывшему в округе лекарем. Врачей-то у нас не было. После окропления куличей тебя привели к дьячку. Он быстро тебя осмотрел и сунул мне какое-то лекарство, наказав давать по двадцать капель три раза в день. Была большая очередь, и «лекарь» торопился. Мы поблагодарили дьячка и отправились домой. Семья собралась обедать, а тебя уложили на полатях. Вдруг подъехал дьячок, быстро вбежал в избу и спрашивает: «Давали мальцу лекарство?» — «Нет еще», — отвечаю. «Вот хорошо, слава богу, сейчас же верни мне бутылочку с лекарством», — сказал дьячок. Я взяла с окна бутылочку, подала ему и тревожно спрашиваю: «Что случилось?» — «Второпях дал тебе раствор мышьяка вместо лекарства; это могло кончиться печально», — не глядя на меня, ответил дьячок. Значит, сынок, — заключила мать,—ты родился в счастливой рубашке.
...Шел 1914 год. Жаркий летний день. В нашу деревню, к дому старосты, на взмыленной лошади прискакал стражник. Толпа мальчишек собралась вокруг него и с любопытством рассматривала раскрасневшегося седока.
- Разойдись! — зычным голосом закричал стражник.
Мальчишки, как испуганная стая уток, разбежались в разные стороны, но потом быстро снова собрались. Войдя в дом и никого там не найдя, стражник нетерпеливо спросил:
- Где староста?
- На сенокосе, дяденька,—робко ответило несколько детских голосов.
- А ну бегом на луг! Позвать старосту!
Несколько мальчишек отделились от толпы и во весь дух побежали исполнять приказание. Стражник вынул какой-то листок и прикрепил его на дверях дома старосты. Все бросились вперед; знавшие грамоту стали читать объявление. Это был манифест царя Николая Второго, в котором сообщалось о всеобщей мобилизации и войне с немцами. Так в мое детское сознание вошло страшное слово «война»...
Отца вскоре забрали на войну. Ушел основной кормилец семьи. Мать плакала горькими слезами. Осталось семеро детей. Мне было десять лет, а старшему брату, Макару, - тринадцать. Видя плачущую мать, я бросился к ней на шею и стал ее утешать:
- Не плачь, мама, батька скоро вернется. Он у нас хороший охотник, постреляет немцев и вернется домой.
- Ах, если бы это было так, как ты говоришь, - утирая слезы, отвечала мать, - Идите ложитесь спать. Завтра пойдем жать жито, а Макар сгребать и возить сено.
Мы забрались на сеновал и крепко заснули. Во сне я видел, что отец на красивой вороной лошади с пикой и саблей в руках врезался в гущу врагов и с криком «Вот вам, поганые антихристы!» начал рубить направо и налево. В это время сзади к отцу подскакал здоровенный немец в каске с шишаком и замахнулся на него саблей. Ужас охватил меня, я вскрикнул — и проснулся. После долго не мог уснуть. И все думал об отце. А вдруг его убьют? И зачем это такое — война?..
Убрав свой урожай и накосив сена, мы шли на заработки к помещику Галковскому. Матери, старшему брату и мне за копку картофеля он платил по пять копеек в день и в придачу давал корзину картофеля.
Война продолжалась. Отец с румынского фронта изредка присылал письма: сообщал, что был ранен, лежал в госпитале, ждет не дождется, когда придет домой. Под диктовку матери я писал письма отцу. На селе меня считали грамотеем. По просьбе матерей и жен солдат, находившихся на фронте, писал им письма. Великое людское горе, которое принесла война, вошло в жизнь каждого крестьянина. Казалось, не будет конца этим страданиям, Когда весной 1917 года до нашего села докатились слухи о том, что «скинули царя Миколашку», крестьяне, особенно женщины, не поверили. Одни испугались, другие говорили, что рано радоваться — приедут стражники и будут плетками бить всех, кто «мутит народ». Но, как вскоре выяснилось, слухи подтвердились. Произошла Февральская революция! Крестьяне выражали свое бурное ликование, все надеялись, что войне конец, а земля будет мужицкой. Но шли дни — война продолжалась, продолжался и кабальный труд на помещиков. И все же чуяли: неотвратимо назревали какие-то важные события.
Четырнадцатилетним юношей я узнал о Великой Октябрьской социалистической революции. Сельский учитель Додин рассказывал крестьянам о Ленине, который призывал солдат, рабочих, крестьян кончать войну, бороться за мир, хлеб и землю, организовывать красногвардейские отряды для борьбы с царскими генералами, капиталистами и помещиками.
Гудело, волновалось село. Помещики удрали из своих имений. На деревенских сходах крестьяне говорили о наступившей долгожданной свободе, о дележе земли. Мне запомнился такой случай. Приехавший из волости агитатор на вопрос крестьян, кто такие большевики и меньшевики, ответил, что большевики — это те люди, кто шагает большими шагами в революции, а меньшевики - те, кто шагает малыми. В нашем селе тоже был избран комбед, проводивший раздел панской земли среди крестьян.
Вскоре отец вернулся с фронта. Жить стало полегче.
Наступил 1918 год. По окончании сельской церковноприходской школы родители послали меня учиться в Кричевское высшеначальное училище, готовившее сельских учителей, преобразованное потом в школу второй ступени. Меня и моих товарищей влекло неодолимое желание учиться и включиться в борьбу за новую жизнь, но, как это сделать, мы еще не знали.
Дорогами новой эпохи. Детство : [детские годы К.В. Киселёва, о жизни в д. Лобковичи] // Киселёв, К. Записки советского дипломата / К. В. Киселев. – Москва : Политиздат, 1974. – С.5–8.